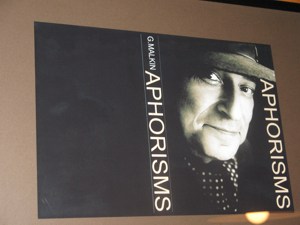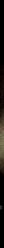 |
|
  Добавить в избранное Рекомендуем:
Анонсы
Новости
Афоризмы по темам
Случайный выбор
|
 |
||||||||||||||
 Анонсы
Случайный выбор
|
ПрозаО Великой Отечественной и Великом Отечестве
Детская память идет вслед за временем и подбирает что-то свое, оброненное взрослыми. Еще не помню ни отца, ни мать, ни брата, ни сестру, ни как вещал по телефонной трубке в два года: «товарищи, без паники – воздушная тревога!» (со слов родителей). Не помню, как мы прятались за печкой на кухне дома, в Брянске, как меня тащила мама на руках под грохот наступающего ужаса и гибели, как мы добрались до Орла, куда уже входили немцы… Не помню и не понимаю до сих пор, как сумела мама, с тремя детьми, прорваться через разбомбленные пути к какому-то стоящему составу, пролезть в забитую доской «теплушку», которая со скрежетом прошла по ржавым рельсам, годами позабытого пути. И покатились дни к Уралу, без пищи, на полу, который стал постелью и столом, и туалетом…Бывало, что на станциях какой-нибудь солдат делился хлебом со старухой и ее детьми, а маме тогда было сорок лет. Я потихоньку помирал от голода и диспепсии, а поезд полз израненной сороконожкой к надежде, людям, жизни. После веселья нашего вояжа, приблизились к Уфе, уже закрытой для обычных беженцев, и нас сгрузили в Дёме, откуда пригородный поезд ходил в Уфу, возил людей, имеющих официальный пропуск. Среди рабочих, ехавших законно, попались добрые сердца – нас уложили под сиденья, закрыли телогрейками, мешками и ногами, и мы доехали, не пойманные патрулем, до города, где прежде жили мамины знакомые. На станции продавали мороженое, горячие булочки и что-то еще бесподобное, из прошлой расстрелянной жизни. Когда мама нашла знакомых, мы пришли к ним домой и увидели на керосинке сковородку с котлетами, в облаке запахов рая. Когда я подрос, мне сказали, что я изловчился схватить, проглотить и боролся как зверь за все остальное, и все испугались, что я тут же умру от обильной еды после долгого голода. Не помню из этого ничего, но знаю, что выжил. Мы вскоре сняли комнату и жили вместе всей собравшейся родней, дружнее и тесней, чем сельди в бочке… Первое в жизни, пунктирное воспоминание: хочется есть, передо мною корова в аромате тепла и чего - то божественно вкусного - это был жмых у нее во рту. Испугавшись рогов и огромного тела невиданной прежде коровы, я позорно бежал, уступая бездушной судьбе, не отведав от пищи богов. Спустя время, когда мы уже жили отдельно, выплывает из памяти вечер: мы сидим за столом, перед нами три блюдца со сладковатой от сахарина водой, мама сыплет в них горсточку семечек и говорит нам, что это халва. И еще, прорывается в память картинка: сестра достает из портфеля что-то круглое, вроде баранки, и дает ее мне, не попробовав даже кусочка от подарка из школы, в честь какого-то праздника. Она повела меня как-то впервые в кинотеатр, фильм назывался «Александр Матросов». Мне сказали, что он жил в нашем городе, в какой-то колонии, и погиб на войне как герой. У меня был с собой пистолет, из обрезка доски, со стволом из проржавленной трубки и резинкой с горохом, для точной стрельбы. До сих пор вижу кадр, как Матросов ползет к пулеметам, изрыгающим смерть, и встает во весь рост…, и я начал стрелять по экрану – в амбразуру немецкого дота. К сожалению, я не попал. Всплывает как в тумане: ограда парка, духовой оркестр, ватага пацанов и очень толстый человек без выражения лица, припавший к ржавым прутьям… Мальчишки крутятся вокруг него и те, кто посмелей, надавливают пальцем на расплывшееся тело – в том месте остается углубление. Когда мы шли обратно, я увидел, что человек осел в нечистую траву с закрытыми глазами. Лет через двадцать я узнал, что это называется водянкой, от голода, когда пьют воду вместо пищи, и с ложным чувством сытости отходят в лучший мир, где нет войны. Еще картинка: рынок, мама смотрит, где купить картошки, народа почти нет, торговые ряды пусты, и вдруг шум, крики… Когда слегка утихло, стало видно – бьют мужчину. И вопли: мясо! вор! убить его! Мужчина в форме, бил по голове виновного гофрированной трубкой от противогаза – тот молча закрывал лицо руками… Не говорю о том, как нас нашел отец – помню свет из двери и тепло налетевшего счастья. Знаю из семейной хроники, что он был в ополчении под Брянском, что город немцы взяли сходу, и участь почти всех оборонявшихся была печальна. Отец остался жив – спасали Брянские леса. Он понимал, что мы в ловушке города, а это не сулило ничего хорошего – евреи были вскоре уничтожены. Мы ничего не знали о его судьбе, а он - о нашей, и худшие предположения усугублялись временем. Однажды отец сопровождал очередной состав, идущий на Урал. В Уфе, при длительной стоянке, его напарник заглянул в буфет на привокзальной площади, там его вычислила дама полусвета и повела к себе домой. Решив поблизости найти бутылку водки, она направила избранника к крыльцу, сказав, где расположена ее большая комната. Пришелец заблудился в коридоре и оказался в нашем переполненном жилище. Последовали извинения, вопросы…Он услыхал, что мы из Брянска, что мы не знаем о судьбе отца, и вспомнил постоянную тоску напарника о детях, о жене, пропавших, видимо, в воронке гетто. Товарищ наскоро простился, бегом на станцию, и рассказал отцу, что видел некую семью из Брянска, возможно, кто-то что-то знает и о его родных. Дал адрес, и отец отправился по зову невозможного. Картину этой встречи вряд ли смог бы передать самый талантливый художник – это по силам только жизни. Судьба воспрянула и жизнь опять соединилась с будущим. Наши войска уже освобождали отданные города, и вскоре стали появляться пленные, враги, которые копали траншеи для каких - то мирных нужд почти - что рядом с нашим домом. Кадр прошлого: в канаве немец, совсем не страшный, он шатает грязным пальцем зубы и просит лук у нас, детей. Я прибегаю в дом, рассказываю маме, и мама достает из под стола, зашитого досками, большую луковицу. Я видел – там остались еще две… Фашисты казнили брата отца - при выполнении особого задания в Орле, был выдан, опознавшими его соседями. А его сын, танкист, сгорел в подбитом танке, и прах его не захоронен так же, как и прах его отца, и моего двоюродного брата Аркадия, погибшего уже после победы над Германией… И было много из родни израненных и покалеченных в боях под деревнями, селами и городами-не героями, с расстрелянными судьбами людей. Дядя Савелий, оставшийся в живых под Сталинградом, краснодеревщик. Работал после войны на лесоскладе, а вечерами делал для души портреты Ленина, из шпона деревьев разных пород. Дядя Лева, с лицом, повстречавшим осколок снаряда – половина лица осталась навеки с какой-то печальной и мудрой, неподвижной улыбкой. От контузии, больше года не мог вспомнить ни имя жены, красавицы тети Кати, ни того зачем жил. Он был гвардии капитаном, сохранившим военную выправку, гимнастерку, галифе с сапогами, вместе с верою в партию и ее безупречных вождей. Они жили втроем с тихой дочерью Раей в тупичке трех вокзалов, в коммуналке на двадцать семей, занимая пространство со столом и кроватью в узкой комнатке метров восьми, выходящей барачным окошком на рельсы трамваев. Если я приезжал, все вставали, чтобы дать мне пройти в глубину ветеранских апартаментов… Тетя Шура, потерявшая двадцатилетнего сына уже после победы над Германией, но не над Японией… Помню свадьбу у Муси, тети Шуриной дочери, сразу вслед за победным салютом. Женихом был Абраша (в просторечии – Толик), возвратившийся с фронта задумчивый и сероглазый одинокий мужчина. Он никогда не говорил, куда исчезли все его родные. Письмо с извещеньем о гибели брата невесты, Аркаши, пришло на наш адрес в Малаховку накануне намеченной свадьбы счастливой его сестры. Моя мама велела нам всем молчать о свалившемся горе, дабы оно не погребло своею тяжестью - ростков заявленного счастья мирной жизни. Отголосок войны их догнал через несколько дней от начала «медового месяца» свинцового года тяжелых победных потерь. Когда тетка моя умерла, ей поставили памятник вместе с сыном Аркадием (неизвестно, где погребенным и погребенным ли) с фотографией лейтенанта в пилотке и орденом на гимнастерке - за сбитые самолеты противника. Когда весною, по обыкновению, я навестил могилы близких, то памятник с разбитой фотографией валялся на земле, сраженный благодарными согражданами, вместе с десятками гранитных и бетонных обелисков на еврейской части кладбища в Малаховке. Вандалов не разыскивали… Дядя Наум - скромный, маленький, профсоюзный трибун. Прожил с семьей в полуподвале, но напротив ЦК – в самом центре Москвы и партийных решений. Принципиальный враг всего, что выходило за пределы решений Пленумов и Съездов. Ходил в блестящих от десятилетий заседаний черных брюках, за неимением другой одежды, взглядов и судьбы. Кристальной честности сапер на минном поле Партии… А День Победы я запомнил хорошо. День Победы, о которой я услышал первым в коммунальном доме в городе Уфе. Накануне мне исполнилось шесть лет, и отчего-то не спалось всю ночь. Я берег свою первую в жизни игрушку – лошадку из папье-маше, на дощечке с колесиками, смотревшую с узкого подоконника на печку-«буржуйку» с железной трубой, выходящей в окно. Было боязно, что лошадку отнимет шпана, наводнявшая улицы и дворы. На рассвете, черный репродуктор, который не выключался, объявил мощным голосом Левитана, что Германия капитулировала. Я закричал, папа с мамой проснулись, и мы бросились в коридор, куда из дверей выбегали наши соседи - кто в чем был. Пеньюаров, пижам и белья от кутюр, на них не было. Были только глаза, и голые руки, обнимавшие всех. Опасаясь чего – то, выглянул тихий бухгалтер, которого не любили за имя Адольф, но и он получил свою порцию крепких объятий. Это было такое единение счастья, горя, надежд и прощенья, которого больше не возникало ни при каких обстоятельствах жизни…Дальше, трудное возвращение – не на родину, в Брянск, где разграбили дом соседи, а в Малаховку, под Москву, в обездоленный временем рай. Хвойный воздух, березы, не тронутый промыслом дерн, возвращенные к жизни лица, и легенды культурных традиций, здесь творивших и живших, и сидевших по тюрьмам людей. При слове интеллигенция, каждый хватается за свое… Отец после войны уже не выглядел таким надежным и уверенным, как на хранимой фотографии из прошлой жизни, где он сидел раздетым на скале, с могучими руками на крутой груди, в невероятно мирном Кисловодске. Не помню, чтобы папа когда-то больше отдыхал. Годами он не брал ни выходных, ни отпусков, ни бюллетеней по болезни – на компенсацию за отдых, нам, детям покупались или шились брюки, куртки, чтобы не стыдно было появляться в школе, институте. И брату, и сестре, и мне предполагалась лучшая судьба – успешных, образованных людей. Отец не дожил до благополучных дней, как впрочем, и миллионы других до него, да и после… Страна менялась к лучшему, отчего-то минуя хорошее, и борясь с остальными народами за правое дело не думать о людях. Прошли года, жизнь старилась морщинами десятилетий… Все вспоминается, как горечь неизбежности: в борьбе за мир, решающим бывает время нападения. Тактичные стратеги крайне редки. Война – смертельное решение проблем.
Детская память идет вслед за временем и подбирает что-то свое, оброненное взрослыми. Еще не помню ни отца, ни мать, ни брата, ни сестру, ни как вещал по телефонной трубке в два года: «товарищи, без паники – воздушная тревога!» (со слов родителей). Не помню, как мы прятались за печкой на кухне дома, в Брянске, как меня тащила мама на руках под грохот наступающего ужаса и гибели, как мы добрались до Орла, куда уже входили немцы… Не помню и не понимаю до сих пор, как сумела мама, с тремя детьми, прорваться через разбомбленные пути к какому-то стоящему составу, пролезть в забитую доской «теплушку», которая со скрежетом прошла по ржавым рельсам, годами позабытого пути. И покатились дни к Уралу, без пищи, на полу, который стал постелью и столом, и туалетом…Бывало, что на станциях какой-нибудь солдат делился хлебом со старухой и ее детьми, а маме тогда было сорок лет. Я потихоньку помирал от голода и диспепсии, а поезд полз израненной сороконожкой к надежде, людям, жизни. После веселья нашего вояжа, приблизились к Уфе, уже закрытой для обычных беженцев, и нас сгрузили в Дёме, откуда пригородный поезд ходил в Уфу, возил людей, имеющих официальный пропуск. Среди рабочих, ехавших законно, попались добрые сердца – нас уложили под сиденья, закрыли телогрейками, мешками и ногами, и мы доехали, не пойманные патрулем, до города, где прежде жили мамины знакомые. На станции продавали мороженое, горячие булочки и что-то еще бесподобное, из прошлой расстрелянной жизни. Когда мама нашла знакомых, мы пришли к ним домой и увидели на керосинке сковородку с котлетами, в облаке запахов рая. Когда я подрос, мне сказали, что я изловчился схватить, проглотить и боролся как зверь за все остальное, и все испугались, что я тут же умру от обильной еды после долгого голода. Не помню из этого ничего, но знаю, что выжил. Мы вскоре сняли комнату и жили вместе всей собравшейся родней, дружнее и тесней, чем сельди в бочке… Первое в жизни, пунктирное воспоминание: хочется есть, передо мною корова в аромате тепла и чего - то божественно вкусного - это был жмых у нее во рту. Испугавшись рогов и огромного тела невиданной прежде коровы, я позорно бежал, уступая бездушной судьбе, не отведав от пищи богов. Спустя время, когда мы уже жили отдельно, выплывает из памяти вечер: мы сидим за столом, перед нами три блюдца со сладковатой от сахарина водой, мама сыплет в них горсточку семечек и говорит нам, что это халва. И еще, прорывается в память картинка: сестра достает из портфеля что-то круглое, вроде баранки, и дает ее мне, не попробовав даже кусочка от подарка из школы, в честь какого-то праздника. Она повела меня как-то впервые в кинотеатр, фильм назывался «Александр Матросов». Мне сказали, что он жил в нашем городе, в какой-то колонии, и погиб на войне как герой. У меня был с собой пистолет, из обрезка доски, со стволом из проржавленной трубки и резинкой с горохом, для точной стрельбы. До сих пор вижу кадр, как Матросов ползет к пулеметам, изрыгающим смерть, и встает во весь рост…, и я начал стрелять по экрану – в амбразуру немецкого дота. К сожалению, я не попал. Всплывает как в тумане: ограда парка, духовой оркестр, ватага пацанов и очень толстый человек без выражения лица, припавший к ржавым прутьям… Мальчишки крутятся вокруг него и те, кто посмелей, надавливают пальцем на расплывшееся тело – в том месте остается углубление. Когда мы шли обратно, я увидел, что человек осел в нечистую траву с закрытыми глазами. Лет через двадцать я узнал, что это называется водянкой, от голода, когда пьют воду вместо пищи, и с ложным чувством сытости отходят в лучший мир, где нет войны. Еще картинка: рынок, мама смотрит, где купить картошки, народа почти нет, торговые ряды пусты, и вдруг шум, крики… Когда слегка утихло, стало видно – бьют мужчину. И вопли: мясо! вор! убить его! Мужчина в форме, бил по голове виновного гофрированной трубкой от противогаза – тот молча закрывал лицо руками… Не говорю о том, как нас нашел отец – помню свет из двери и тепло налетевшего счастья. Знаю из семейной хроники, что он был в ополчении под Брянском, что город немцы взяли сходу, и участь почти всех оборонявшихся была печальна. Отец остался жив – спасали Брянские леса. Он понимал, что мы в ловушке города, а это не сулило ничего хорошего – евреи были вскоре уничтожены. Мы ничего не знали о его судьбе, а он - о нашей, и худшие предположения усугублялись временем. Однажды отец сопровождал очередной состав, идущий на Урал. В Уфе, при длительной стоянке, его напарник заглянул в буфет на привокзальной площади, там его вычислила дама полусвета и повела к себе домой. Решив поблизости найти бутылку водки, она направила избранника к крыльцу, сказав, где расположена ее большая комната. Пришелец заблудился в коридоре и оказался в нашем переполненном жилище. Последовали извинения, вопросы…Он услыхал, что мы из Брянска, что мы не знаем о судьбе отца, и вспомнил постоянную тоску напарника о детях, о жене, пропавших, видимо, в воронке гетто. Товарищ наскоро простился, бегом на станцию, и рассказал отцу, что видел некую семью из Брянска, возможно, кто-то что-то знает и о его родных. Дал адрес, и отец отправился по зову невозможного. Картину этой встречи вряд ли смог бы передать самый талантливый художник – это по силам только жизни. Судьба воспрянула и жизнь опять соединилась с будущим. Наши войска уже освобождали отданные города, и вскоре стали появляться пленные, враги, которые копали траншеи для каких - то мирных нужд почти - что рядом с нашим домом. Кадр прошлого: в канаве немец, совсем не страшный, он шатает грязным пальцем зубы и просит лук у нас, детей. Я прибегаю в дом, рассказываю маме, и мама достает из под стола, зашитого досками, большую луковицу. Я видел – там остались еще две… Фашисты казнили брата отца - при выполнении особого задания в Орле, был выдан, опознавшими его соседями. А его сын, танкист, сгорел в подбитом танке, и прах его не захоронен так же, как и прах его отца, и моего двоюродного брата Аркадия, погибшего уже после победы над Германией… И было много из родни израненных и покалеченных в боях под деревнями, селами и городами-не героями, с расстрелянными судьбами людей. Дядя Савелий, оставшийся в живых под Сталинградом, краснодеревщик. Работал после войны на лесоскладе, а вечерами делал для души портреты Ленина, из шпона деревьев разных пород. Дядя Лева, с лицом, повстречавшим осколок снаряда – половина лица осталась навеки с какой-то печальной и мудрой, неподвижной улыбкой. От контузии, больше года не мог вспомнить ни имя жены, красавицы тети Кати, ни того зачем жил. Он был гвардии капитаном, сохранившим военную выправку, гимнастерку, галифе с сапогами, вместе с верою в партию и ее безупречных вождей. Они жили втроем с тихой дочерью Раей в тупичке трех вокзалов, в коммуналке на двадцать семей, занимая пространство со столом и кроватью в узкой комнатке метров восьми, выходящей барачным окошком на рельсы трамваев. Если я приезжал, все вставали, чтобы дать мне пройти в глубину ветеранских апартаментов… Тетя Шура, потерявшая двадцатилетнего сына уже после победы над Германией, но не над Японией… Помню свадьбу у Муси, тети Шуриной дочери, сразу вслед за победным салютом. Женихом был Абраша (в просторечии – Толик), возвратившийся с фронта задумчивый и сероглазый одинокий мужчина. Он никогда не говорил, куда исчезли все его родные. Письмо с извещеньем о гибели брата невесты, Аркаши, пришло на наш адрес в Малаховку накануне намеченной свадьбы счастливой его сестры. Моя мама велела нам всем молчать о свалившемся горе, дабы оно не погребло своею тяжестью - ростков заявленного счастья мирной жизни. Отголосок войны их догнал через несколько дней от начала «медового месяца» свинцового года тяжелых победных потерь. Когда тетка моя умерла, ей поставили памятник вместе с сыном Аркадием (неизвестно, где погребенным и погребенным ли) с фотографией лейтенанта в пилотке и орденом на гимнастерке - за сбитые самолеты противника. Когда весною, по обыкновению, я навестил могилы близких, то памятник с разбитой фотографией валялся на земле, сраженный благодарными согражданами, вместе с десятками гранитных и бетонных обелисков на еврейской части кладбища в Малаховке. Вандалов не разыскивали… Дядя Наум - скромный, маленький, профсоюзный трибун. Прожил с семьей в полуподвале, но напротив ЦК – в самом центре Москвы и партийных решений. Принципиальный враг всего, что выходило за пределы решений Пленумов и Съездов. Ходил в блестящих от десятилетий заседаний черных брюках, за неимением другой одежды, взглядов и судьбы. Кристальной честности сапер на минном поле Партии… А День Победы я запомнил хорошо. День Победы, о которой я услышал первым в коммунальном доме в городе Уфе. Накануне мне исполнилось шесть лет, и отчего-то не спалось всю ночь. Я берег свою первую в жизни игрушку – лошадку из папье-маше, на дощечке с колесиками, смотревшую с узкого подоконника на печку-«буржуйку» с железной трубой, выходящей в окно. Было боязно, что лошадку отнимет шпана, наводнявшая улицы и дворы. На рассвете, черный репродуктор, который не выключался, объявил мощным голосом Левитана, что Германия капитулировала. Я закричал, папа с мамой проснулись, и мы бросились в коридор, куда из дверей выбегали наши соседи - кто в чем был. Пеньюаров, пижам и белья от кутюр, на них не было. Были только глаза, и голые руки, обнимавшие всех. Опасаясь чего – то, выглянул тихий бухгалтер, которого не любили за имя Адольф, но и он получил свою порцию крепких объятий. Это было такое единение счастья, горя, надежд и прощенья, которого больше не возникало ни при каких обстоятельствах жизни…Дальше, трудное возвращение – не на родину, в Брянск, где разграбили дом соседи, а в Малаховку, под Москву, в обездоленный временем рай. Хвойный воздух, березы, не тронутый промыслом дерн, возвращенные к жизни лица, и легенды культурных традиций, здесь творивших и живших, и сидевших по тюрьмам людей. При слове интеллигенция, каждый хватается за свое… Отец после войны уже не выглядел таким надежным и уверенным, как на хранимой фотографии из прошлой жизни, где он сидел раздетым на скале, с могучими руками на крутой груди, в невероятно мирном Кисловодске. Не помню, чтобы папа когда-то больше отдыхал. Годами он не брал ни выходных, ни отпусков, ни бюллетеней по болезни – на компенсацию за отдых, нам, детям покупались или шились брюки, куртки, чтобы не стыдно было появляться в школе, институте. И брату, и сестре, и мне предполагалась лучшая судьба – успешных, образованных людей. Отец не дожил до благополучных дней, как впрочем, и миллионы других до него, да и после… Страна менялась к лучшему, отчего-то минуя хорошее, и борясь с остальными народами за правое дело не думать о людях. Есть земли, где люди родятся для счастья, как птицы – для вечной работы. Прошли года, жизнь старилась морщинами десятилетий… Все вспоминается, как горечь неизбежности: в борьбе за мир, решающим бывает время нападения. Тактичные стратеги крайне редки. Война – смертельное решение проблем. |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||